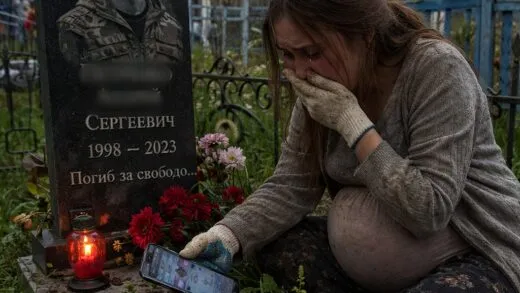— Хороший сын! — кивала родственница. — Настя им гордилась, всегда говорила: «Валерка у меня молодец».
Виктория стояла у гроба в чёрном платье, принимая соболезнования, кивая на слова утешения, и чувствовала, как внутри всё сжимается от отвращения при виде этого виртуального спектакля, этих слёз, за которыми скрывались горнолыжные склоны Буковеля и объятия крашеной блондинки.
Она организовала всё сама. Договор с крематорием — сорок тысяч (последние деньги с кредитки). Поминальный обед в кафе у дома — ещё пятнадцать тысяч (снова в долг у подруги, которая уже начинала вздыхать при её звонках). Потом девять дней, сорок дней… Всё это время она двигалась как автомат, не способная выронить ни слезинки на публике, потому что все слёзы были выплаканы за три месяца у постели умирающей.
«Прах оставь в колумбарии в городе, так проще будет навещать», — написал Валерий после похорон.
Виктория не ответила, только усмехнулась горько, читая это сообщение. Она знала: Анастасия хотела вернуться на хутор, в землю, где прожила всю жизнь, туда, где под ящиком с картошкой была закопана её последняя тайна.
Рейсовый автобус трясся по разбитой зимней дороге до Подгородного, подпрыгивая на каждой колдобине, потом попутка на фермерском бусике до села Волосское. Старый дом Титовых стоял на самом краю, у заросшего оврага. Покосившийся забор, заросший сухим бурьяном двор, ставни на окнах, прибитые крест-накрест. Виктория с трудом открыла заржавевший замок на калитке, который не поддавался, пока она не догадалась капнуть на него маслом из бутылки, найденной в сарае.
Внутри дом встретил её запахом нежилого помещения, мышиным помётом на полу и паутиной по углам, затянувшей даже портрет молодых Титовых на стене. Она установила урну с прахом на комод рядом с фотографией, зажгла церковную свечу перед старой иконой Богородицы в углу и провела ночь на продавленном диване, не раздеваясь, укрывшись всеми одеялами, какие нашла в шкафу, пропахшими нафталином и старостью. Не спала — смотрела в темноту и слушала, как скрипит дом под порывами ветра, как что-то шуршит на чердаке, как потрескивает свеча у иконы, отбрасывая дрожащие тени на стены.
На рассвете, едва небо посерело над заснеженной степью, она взяла лопату из сарая и пошла к летней кухне — отдельному строению в глубине двора, где Анастасия когда-то варила варенье и закатывала соленья на зиму. Дверь еле поддалась, перекосилась от сырости и разбухла; Виктории пришлось налечь плечом, чтобы открыть. Внутри — печка-буржуйка с отвалившейся дверцей, почерневшие кастрюли на полке, банки с засохшим вареньем, покрытые пылью.
В углу — вход в погреб, тяжёлая деревянная крышка на ржавых петлях, которую пришлось поднимать двумя руками. Она спустилась по шаткой лестнице, водя фонариком по сырым стенам. Полки с пустыми банками, ящики с проросшей картошкой, сырость и холод, пробирающий до костей. Самый большой ящик стоял в углу, полузасыпанный землёй и прикрытый старой соломой. Виктория сдвинула его в сторону, подняла лопату и начала копать, вгрызаясь в слежавшуюся глину. На глубине полуметра металл звякнул о металл. Она отбросила лопату и принялась разгребать влажную землю руками, не жалея маникюра, не замечая боли и холода, пока не вытащила на свет жестяную коробку с полустёртой надписью, обёрнутую в несколько слоев полиэтилена, заботливо перевязанного бечёвкой.
На крыльце летней кухни, на морозном воздухе, под серым январским небом, Виктория разорвала полиэтилен негнущимися от холода пальцами и с трудом открыла ржавую крышку. Внутри лежала выписка со сберегательного счёта и жёлтый конверт, запечатанный сургучом. Она развернула выписку и едва не выронила её в снег. На счету значился остаток в 2 980 000 гривен, и последняя операция — зачисление по государственной программе — была датирована пятью годами ранее.
В конверте оказались два документа: решение суда от 1986 года об усыновлении несовершеннолетнего и свидетельство о рождении, где Титовы были записаны родителями найденного младенца. И письмо — два листа из школьной тетради в клетку, исписанные неровным, но разборчивым почерком Анастасии: